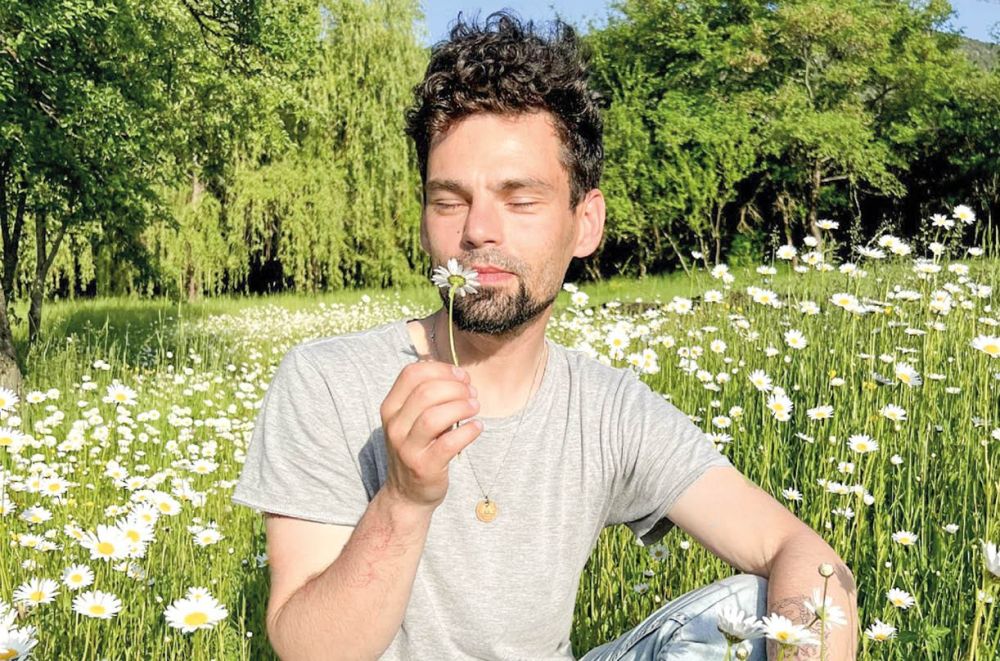«Оружие, называемое "револьвером", является самым губительным»
Термин «абордаж» в массовом сознании обычно ассоциируется с морскими сражениями эпохи Паруса. Меж тем и в эпоху Пара & Брони вероятность абордажных схваток являлась отнюдь не нулевой. Например, 5 ноября 1853 года первый в истории бой паровых кораблей - русского пароходо-фрегата «Владимир» и турецкого вооружённого парохода «Перваз-Бахри» - закончился отправкой на спустившего флаг «турка» русских моряков, вооружённых абордажным оружием. «Чтобы завладеть призом и поднять русский флаг», - как указал в своём донесении начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Владимир Корнилов.
А 21 мая 1879 года командир чилийского корвета «Эсмеральда» Артуро Прат погиб с револьвером в одной руке и саблей в другой, когда отправился абордировать перуанский монитор «Уаскар».
И так далее, и тому подобное.
В общем, абордажные партии на паровых кораблях сохранялись, и Российский императорский флот тут не был исключением. В нём тоже водились абордажники, которым, разумеется, для их лихих дел требовалось специализированное оружие: по возможности компактное и, желательно, достаточно убойное. Далеко не последнее место в этом арсенале занимал огнестрельный короткоствол. Давайте с ним познакомимся поближе, благо тема эта довольно любопытная.
Чтобы в данной теме понять, «кто на ком стоял», начнём наш обзор с первых десятилетий XIX века.
Тот же вариант, только в профиль
В упомянутые годы в роли абордажного огнестрельного короткоствольного оружия выступал пехотный пистолет с кремнёвым замком и гладким каналом ствола. Российские моряки этот пистолет откровенно недолюбливали. Больше одного с собой не прихватишь (потому что так положено по нормам снабжения), в запарке схватки на ограниченном пространстве не перезарядишь (то есть имеется лишь один выстрел), прицельно куда-то сможешь попасть шагов с 10-15. Ближе можно, дальше - вряд ли! Тем более - на качающейся палубе. Чуть ли не единственный плюс такого оружия - прочность конструкции и её приличная масса, позволяющие в рукопашной от души кому-нибудь врезать по голове рукоятью пистолета.
 © wikipedia.org Французский морской кремнёвый пистолет эпохи Наполеоновских войн.
© wikipedia.org Французский морской кремнёвый пистолет эпохи Наполеоновских войн. Появление в 1827 году укороченной - «кавалерийской» - версии того же пистолета, оснащённой с левой стороны крюком, дававшим возможность крепить оружие в лопасти портупеи бойца, принципиально ситуацию не изменило. Точно так же на ней мало сказалось появление у русских абордажников после 1828 года короткоствола «английского образца», скопированного с пистолетов, используемых на кораблях Royal Navy.
Образно выражаясь, это были те же яйца, только в профиль.
Чуть оживило атмосферу появление капсюльных замков. Начиная с 1836 года ими на флоте в опытном порядке стали заменять замки кремнёвые и смотреть, что из этого получится. На первых порах получалось так себе, но энтузиасты продолжали двигать дело и непрерывно теребить командование, которое в своей массе теребиться не желало. Внедрение капсюльных замков на пистолетах абордажников «шло весьма мешкотно», с неимоверным трудом продираясь сквозь косность профильных инстанций и тезис «денег нет, но вы держитесь». Массовая переделка в России огнестрельного оружия с кремнёвыми замками под использование замков капсюльных началась только в 1844-м.
20 сентября 1859-го случилась маленькая революция - генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич наконец-то принял решение «утвердить чушку [то есть - кобуру] пистолета для фельдфебелей, боцманов и музыкантов». До сего момента идея носить на флоте пистолеты не на крюке, а кобуре встречалась начальством в штыки, как «требующая лишних расходов».
Как следует смажь оба «Кольта»…
Куда более крупная революция в абордажном короткостволе ахнула с появлением американского Colt 1851 Navy - капсюльного револьвера с нарезным стволом и калибром 3,6 линии, т.е. 9,14 мм. Владелец этого оружия мало того, что имел в запасе не один выстрел, а шесть, так ещё мог и значительно сократить время заряжания путём использования заранее приготовленных патронов, в которых пуля и порох заворачивались в фольгу или бумагу. При тестовых отстрелах модель Navy тоже показала себя неплохо - на дистанции 64 шага стрелок из кольтовского изделия в мишень 30x30 см смог всадить 25 пуль из 48.
Естественно, российские военные представители немедленно заинтересовались продукцией Сэмуэля Кольта. Итогом последующих переговоров стали поставки Colt 1851 Navy в Россию, где те получили название «револьвер Кольта №2». Позже производство отечественных клонов этих револьверов удалось наладить на российских предприятиях. Не сразу, не «с наскока», но «тульские мастера выпускать "Кольты" приладились».
Американские револьверы закупались по цене 32 рубля 63 копейки серебром за штуку. Их клоны, сделанные в Туле, стоили дешевле - 25 рублей. Для хранения «Кольтов» на кораблях предписывалось иметь специальные ящики и выдавать из них оружие абордажникам по сигналу «Вызов абордажных партий».
 © Фото автора Револьвер Colt 1851 Navy, он же револьвер Кольта №2.
© Фото автора Револьвер Colt 1851 Navy, он же револьвер Кольта №2. Первоначально ожидалось, что новинка сразу пойдёт на вооружение флотских абордажных партий. На практике же револьверы Кольта №2 в условиях уже идущей Крымской войны сначала достались личному составу Гвардейского экипажа. Лишь затем револьверы Кольта «поехали» на Черноморский флот. До завершения боевых действий на российских кораблях сохранялся дичайший револьверный дефицит - подавляющая часть абордажных партий имела в своём распоряжении исключительно гладкоствольное оружие. Тем не менее, появление многозарядного короткоствола стало для российских моряков, безусловно, положительным моментом. В стычках «накоротке» «Кольт» давал своему владельцу серьёзные преимущества. «Оружие, называемое "револьвером", является самым губительным», - докладывал генерал-майор Борис Глинка в Морское министерство, имея в виду именно «Кольт».
При всём при том «Кольты» имели плунжерное заряжание и ручное взведение курка. Вдобавок наблюдались проблемы с изготовлением в России капсюлей, подходящих для кольтовских револьверов. Такие нюансы подтолкнули российских моряков после окончания Крымской войны к поиску чего-то более подходящего для себя, чем револьвер Кольта №2.
Более подходящее нашлось далеко не скоро. Зато оно использовало унитарный патрон с центральным воспламенением, да и вообще оказалось крайне оригинальным!
Хитрая «раскладушка» Галана
Французский оружейник Шарль Франсуа Галан в 1868 году получил патент на принципиально новую систему автоматического экстрактирования стрелянных гильз, значительно ускорявшую перезарядку оружия. Заранее прошу прощения за длинную цитату из книги Сергея Монетчикова «Отечественные револьверы и пистолеты», но лучшего описания творения французского оружейника на русском языке я просто не нашёл.
Итак: «В револьвере Галана ось барабана жёстко соединялась с рамкой. В передней части рамки монтировался длинный рычаг, завершающийся изгибом, под спусковую скобу. Отдельный от барабана экстрактор был выполнен в форме звёздочки. Для удаления стреляных гильз из барабана подствольный рычаг необходимо было подать вниз - вперёд, при этом ствол с барабаном продвигался вперёд на оси, а гильзы, оставаясь в диске экстрактора, выпадали вниз под своим весом. Оружие было готово к действию после того, как в каморы барабана при выдвинутом экстракторе вставлялись новые патроны и рычаг ставился в первоначальное положение, запирая тем самым барабан».
 © Фото автора Абордажный револьвер системы «Галан» образца 1870 года.
© Фото автора Абордажный револьвер системы «Галан» образца 1870 года. Своеобразным бонусом ко всему этому великолепию прилагалась ещё и «самовзводность курка». Иными словами, в отличие от Colt 1851 Navy, «Галан» являлся револьвером двойного действия.
Как ни странно, хитрая шестизарядная «раскладушка» Галана вполне себе работала. Пройти мимо такого технического чуда российские моряки никак не могли.
Находившийся в служебной командировке в Бельгии флотский лейтенант Николай Михайлович Баранов - директор морского музея Санкт-Петербурга (!) и, по совместительству, создатель казнозарядной однозарядной винтовки образца 1869 года, переделанной под металлический унитарный патрон, наткнулся в 1869-м на описание револьвера Галана в местном журнале «Вольный стрелок». Лейтенант настолько впечатлился прочитанным, что отправил в канцелярию Морского министерства депешу с предложением купить «на пробу» один экземпляр новейшего заграничного короткоствола. Ответ генерал-адмирала гласил: «Закупка скорострельного пистолета-револьвера системы "Галан" Высочайше разрешена и возложена на лейтенанта Баранова».
Баранов связался с Галаном и договорился о заказе у него одного револьвера. При этом русский лейтенант подметил ряд недостатков в конструкции «Галана» - ненадёжный способ запирания ствола, «не так» функционирующий боёк курка, «неправильная» система нарезки канала ствола и тому подобное. Французский конструктор удивился замечаниям российского офицера, но, обдумав их, согласился доработать свой револьвер. После этого Баранов гарантировал Морскому министерству, что все заказанные Россией у Галана револьверы «будут надлежащего качества». Дома дали отмашку, и лейтенант подписал в Бельгии контракт на поставку Российскому императорскому флоту 505 револьверов Галана калибра 4,2 линии по цене 55 франков за единицу. Кроме того, к револьверам удалось заказать 86 тыс. патронов.
18 выстрелов в минуту
Поступившие из-за границы в Санкт-Петербург «Галаны» были подвергнуты сравнительным испытаниям с «Кольтами». При стрельбе в доску толщиной 1 дюйм на дистанции 20 шагов пули обоих револьверов пробили щит навылет - «ничья». Зато при проверке скорострельности «Галан» буквально втоптал «американца» в землю. Если из «Кольта» за минуту удалось сделать 6 выстрелов, то револьвер французского конструктора за то же время выдал 18. Да, детка, унитарный патрон, плюс одновременная экстракция всех стреляных гильз из барабана, плюс самовзвод, это вам не шутка!..
Дальнейшая программа испытаний содержала немало интересных пунктов, среди которых:
- стрельба после «утопления» револьверов на час в чане с водой;
- стрельба после замораживания револьверов в груде льда;
- стрельба после бросков револьверов на брёвна и в грязь.
 © Фото автора «Для удаления стреляных гильз из барабана подствольный рычаг необходимо было подать вниз...»
© Фото автора «Для удаления стреляных гильз из барабана подствольный рычаг необходимо было подать вниз...» Во всех этих случаях «Кольт» по надёжности уступил «Галану». 12 марта 1871 года приказом управляющего Морским ведомством револьвер системы «Галан» образца 1870 года был утверждён для употребления на кораблях флота в качестве абордажного оружия. Уже не лейтенанта, а капитан-лейтенанта Баранова в срочном порядке отправили в Бельгию для закупки второй партии «Галанов» (500 единиц) и патронов к ним. На этом служебные вояжи директора морского музея Санкт-Петербурга в Европу по делам оружейным не закончились. Весной 1873 года Баранов вновь оказался в Бельгии. На сей раз - с распоряжением закупить уже тысячу револьверов. Потом будет ещё и четвёртая партия, изготовителями которой станут братья Эмиль и Леон Наганы. Как и в случае с «Кольтом», производство револьверов Галана локализовали в Туле.
Увы, обеспечить флот в полном объёме новым оружием так и не получилось. Но в экипажах тех кораблей, которым «Галаны» всё же достались, эти револьверы заслужили немалое уважение как своей скорострельностью, так и надёжностью. Правда, знатоки утверждали, что у револьверов Галана не всё в порядке с балансом («клюют» вперёд), а их патрон центрального воспламенения «слишком маломощен по нашим временам». Но 18 выстрелов в минуту, братцы, 18!..
 © Фото автора Револьвер системы «Смит и Вессон» (модель №3).
© Фото автора Револьвер системы «Смит и Вессон» (модель №3). Русско-турецкую войну 1877-1878 годов абордажные партии Российского императорского флота отвоевали с револьверами Кольта №2 и «Галанами». В начале 1880-х в виду экономических соображений и единообразия «Галаны» на флоте решено было заменить 4,2-линейными шестизарядными револьверами системы «Смит и Вессон» (модель №3), находившимся на вооружении кавалерийских частей. Позднее на смену «Смит и Вессонам» пришли 3-линейные семизарядные армейские револьверы системы Нагана (от уже знакомых нам братьев Эмиля и Леона) образца 1895 года.
 © Фото автора «Наганы» российского и советского производства.
© Фото автора «Наганы» российского и советского производства. «Таким образом, абордажный револьвер системы "Галан" явился последним специализированным образцом ручного огнестрельного оружия, предназначенного для [Российского] флота», - резюмирует в своей книге «Абордажное оружие» Игорь Суханов.
Симптоматично, что даже «уйдя в отставку», «Галан» вплоть до начала XX века продолжал гулять по карманам российских морских офицеров, посещавших приличные и не очень места. Почему? «Галан» был компактнее, чем «Смит и Вессон», надёжен… Ну и да - 18 выстрелов в минуту!
«...Наравне с подвигом брига «Меркурия»
Что же до Николая Баранова, то его жизненный путь после окончания эпопеи с закупками в Европе «Галанов» и патронов к ним, оказался очень непростым.
Получив с началом русско-турецкой войны под своё командование вооружённый пароход «Веста», кап-лей Баранов 11 июля 1877-го близ Кюстенджи (сейчас - Констанца) повстречал турецкий броненосный корвет «Фетхи-Буленд». Противник открыл огонь первым…
14 июля того же года генерал-адъютант вице-адмирал Николай Аркас направил управляющему Морским министерством вице-адмиралу Степану Лесовскому рапорт, в котором написал следующее: «Посылаю Вашему Превосходительству копию донесения командира… капитан-лейтенанта Баранова, в которой изволите увидеть все подробности славнаго пятичасового боя, благоразумную во всем распорядительность и подвиги отваги, неустрашимости и доблести, выказанныя в этом деле, начиная от командира до последнего юнги. Честь русскаго имени и честь нашего флага поддержаны вполне. Неприятель, имевший броню, сильную артиллерию и превосходство в ходе, вынужден был постыдно бежать от железнаго слабаго парохода, вооружённого только 6-дюймовыми мортирами и 9-фунтовыми орудиями, но сильнаго геройским мужеством командира, офицеров и команды. Ими одержана полная победа, и морская история должна будет внести в свои страницы этот блистательный подвиг, поставя его наравне с подвигом брига "Меркурия"».
По всему выходило, что «Веста» чуть не утопила бронированного «турка» и заставила того спасаться бегством. Баранов за отличие был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени и пожалован во флигель-адъютанты. В ночь на 13 декабря 1877 года, командуя уже пароходом «Россия», Баранов захватил турецкий транспорт «Мерсина» с многочисленным вражеским десантом. В 1878 году Баранов являлся уже прославленным на всю Россию капитаном 1 ранга, когда разразился скандал. Бывший офицер-артиллерист «Весты» Зиновий Рожественский (будущий командующий российской эскадрой в Цусиме) опубликовал статью, в которой написал, что вместо героического боя на самом деле имело место пятичасовое «постыдное бегство» парохода от броненосного корвета. Статья привела к возбуждению судебного процесса по делу «Весты». Обиженный Баранов просил отставки, получил отказ, «полез в бутылку», припомнил Морскому ведомству недоплаченные ему призовые деньги за «Мерсину», после чего… был судом признан виновным и отставлен от службы.
 © wikipedia.org . Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд» в Чёрном море 11 июля 1877 года, (картина Р.Г. Судковского).
© wikipedia.org . Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд» в Чёрном море 11 июля 1877 года, (картина Р.Г. Судковского). В 1880 году по ходатайству министра внутренних дел Михаила Лорис-Меликова капитан 1 ранга Николай Баранов был помилован и переведён в полицию, «с переименованием в полковника». Побывав исполняющим должность губернатора Ковенской губернии, градоначальником Санкт-Петербурга, а также архангельским и нижегородским губернатором, Баранов скончался летом 1901 года сенатором.
В память о покойном спущенный на воду в 1907 году эскадренный миноносец Черноморского императорского флота получил имя «Капитан-лейтенант Баранов». 18 июня 1918 года по приказу Советского правительства, во избежание захвата германскими войсками, эсминец был затоплен экипажем в Цемесской бухте Новороссийска. 10 декабря 1927-го корпус корабля подняла Черноморская партия ЭПРОН. При осмотре подпалубных помещений «Баранова» обнаружился едва угадываемый под слоем ржавчины револьвер. Это был «Наган». А жаль. Был бы «Галан» - получилось бы куда символичнее…