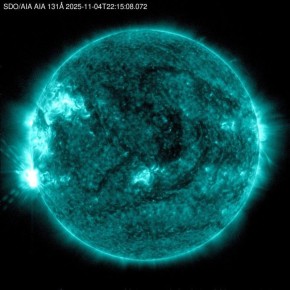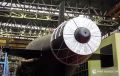В настоящее время космополиты и русофобы всех мастей с заслуживающим лучшего применения упорством пытаются подвергнуть сомнению, принизить и опорочить всё, что вызывает у русских людей чувство гордости за державу и за предков, её создавших, защитивших и возвеличивших.
К хору этих вражеских голосов примыкают и те, кого тщеславие и стремление привлечь внимание к своим опусам толкают на изобретение версий о том, что победы Александра Невского на Неве и на Чудском озере являли собой рядовые, малозначительные пограничные стычки, что Куликовской битвы не было вообще, что Наполеон в 1812 году шёл от успеха к успеху и только лишь лютые морозы заставили его, удобрив русскую землю сотнями тысяч трупов европейцев, бежать из России с жалкой кучкой выживших солдат. Перечень этих «сенсационных открытий» можно было бы продолжать и продолжать...
На фоне вышеупомянутого нет ничего удивительного в том, что нападкам подвергается и история подвига Ивана Сусанина. Причём речь идёт не об основанном на научном походе критическом разборе и осмыслении, а о банальном охаивании и огульном отрицании самой возможности того, что простой русский крестьянин мог отдать жизнь за царя и Отечество. Так был ли акт самопожертвования? Попробуем в этом вопросе разобраться…
«И что была тогда Россия?»
Этим вопросом начинается последний абзац недописанной Николаем Карамзиным «Истории государства Российского». Автор ярко живописует вызванное Великой Смутой состояние крайнего бедствия, в котором наша страна пребывала в 1610 году. Тогда казалось, что Россия никогда уже не воспрянет от постигших её разорения и унижения, окончательно лишится независимости и будет разорвана хищными соседями на части.
Но нет, нашлись великие герои! Патриарх Гермоген, несгибаемый старец с железной волей, разослал по всей стране воззвания к сопротивлению иноземным захватчикам. Козьма Минин, простой торговец из Нижнего Новгорода, призвал людей «не жалеть ничего, дворы продавать, жён и детей закладывать» ради сбора средств на войско, способное изгнать из Москвы поляков, а не запятнанный компромиссом с врагами Отечества князь Дмитрий Пожарский это войско возглавил.
Надо особо подчеркнуть, что ко Второму ополчению примкнуло немало казанских татар и представителей других народов Поволжья. Для них всех Русское государство тоже успело стать своим, и видеть его во власти польско-литовских захватчиков они не желали. В сентябре 1612 года под Москвой ополчение нанесло поражение войску интервентов во главе с гетманом Яном Ходкевичем, а через два месяца, в начале ноября (по новому стилю), оно овладело Кремлём.
«Но Россия не имела царя и ещё бедствовала от хищных иноплеменников, – пишет в своей «Записке о старой и новой России» Карамзин. – Из всех городов съехались в Москву избранные знаменитейшие люди и в храме Успения вместе с пастырями церкви и боярами решили судьбу Отечества. Никогда народ не действовал торжественнее и свободнее, никогда не имел побуждений святейших; все хотели одного – целости, блага России. Не блистало вокруг оружие, не было ни угроз, ни подкупа, ни противоречий, ни сомнения. Избрали юношу (Михаила Романова), почти отрока, удалённого от света; почти силою извлекли его из объятий устрашённой матери-инокини и возвели на престол». Это избрание Земским собором состоялось 3 марта (по новому стилю) 1613 года.
Между избранием и венчанием на царство
На тот момент Михаил находился не в Москве. Зимой 1612–1613 годов он пребывал в Домнино, одном из сёл родовой вотчины Романовых, а затем из-за грозившей ему опасности был вывезен в расположенную поблизости Кострому и укрыт в Ипатьевском монастыре. С периодом, последовавшим сразу за избранием царя, и связана история подвига Ивана Сусанина.
В эпической её версии повествуется о том, что Сусанин согласился стать проводником для ворвавшегося в Домнино польско-литовского отряда, разыскивавшего избранного на царство юного Михаила Романова. Целью интервентов являлось убийство народного избранника, то есть лишение России только что обретённого ею законного монарха. Но Сусанин завёл врагов в непролазные болотистые дебри и обрёк их тем самым на верную гибель. Герой отказался вывести убийц из лесной западни, несмотря на их угрозы и жестокие пытки. Тогда в бессильной ярости враги зарубили его.
Было ли всё в точности так, как гласит о том легенда? К сожалению, ответ на этот вопрос лежит вне сферы точных знаний. Неоспоримых доказательств, подтверждающих факт, что Сусанин вызвался быть проводником и завёл доверившихся ему интервентов в ловушку, не существует. Достоверно лишь то, что 10 декабря (по новому стилю) 1619 года, уже после окончания войны с поляками, царь Михаил Фёдорович пожаловал зятю Ивана Сусанина Богдану Собинину «за службу к нам, и за кровь, и за терпение» половину деревни и освободил потомков героя от всех повинностей и податей.
Причина монаршей милости изложена в жалованной грамоте: «Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме и в те годы приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина, литовские люди изымали и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси, были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти».
Так был ли подвиг?
Казалось бы, факт подвига задокументирован не абы кем, а наивысшей в ту эпоху инстанцией – самим самодержцем. Тем не менее на протяжении уже нескольких веков ведутся споры о том, действительно ли Сусанин заманил врагов в лесную чащу, на самом ли деле он подвергался пыткам, и даже о том, существовал ли он на самом деле! Отбросив последнее как бредовое извращение мозгов, пропитанных желчью неприязни ко всему русскому, рассмотрим две предыдущие озвученные дилеммы.
Не утомляя читателя долгими рассуждениями и блужданиями в лабиринте логических интерпретаций, примем за данность, что написанное в грамоте является правдой. Иначе зачем было бы царю, современнику тех событий, даровать льготы дочери и зятю Сусанина? Предполагать, что крестьянин Богдан Собинин дерзнул бы при жизни множества свидетелей, среди которых вполне могли найтись завистливые разоблачители, «бить челом» самому царю о получении незаслуженных льгот, как-то даже несерьёзно. А вот насчёт, с позволения сказать, «экскурсии на болота в один конец» сомнения вполне обоснованные.
В жалованной грамоте ни слова не сказано о том, что Иван Сусанин повёл убийц в лес и обрёк их там на гибель. Говорится только о принятой им ради спасения Михаила Романова мученической смерти. Но разве умаляет это в какой-то мере его подвиг? Нисколько! Не погубил ценой своей жизни отряд интервентов? Да, наверное. Но что такое жизнь нескольких десятков жалких негодяев в сравнении со спасением всей России, после нескольких страшных лет Великой Смуты наконец-то получившей живой символ законной власти?!
Так откуда же взялась легенда о заведённом в западню польско-литовском отряде? На этот вопрос есть логичный ответ, основанный на свидетельстве литовского шляхтича Самуила Маскевича. Только случай, описанный им, имел место в окрестностях не Костромы, а Можайска. В своём дневнике авантюрист записал, что в деревне Вишенце он и его сотоварищи «поймали старого крестьянина и взяли его проводником, чтобы не заблудиться и не набресть на Волок, где стоял сильный неприятель». Старик едва не привёл их в плен, за что, натерпевшись страха, враги отсекли ему голову.
Имя этого русского патриота осталось неизвестным, но, скорее всего, именно его героический поступок переплёлся в народной молве с подвигом Ивана Сусанина. А может быть, такой случай был не единственным. И это даёт нам повод гордиться простыми русскими людьми, жертвовавшими в ту страшную пору жизнями ради Отечества!
Сергей КОЛДИН.